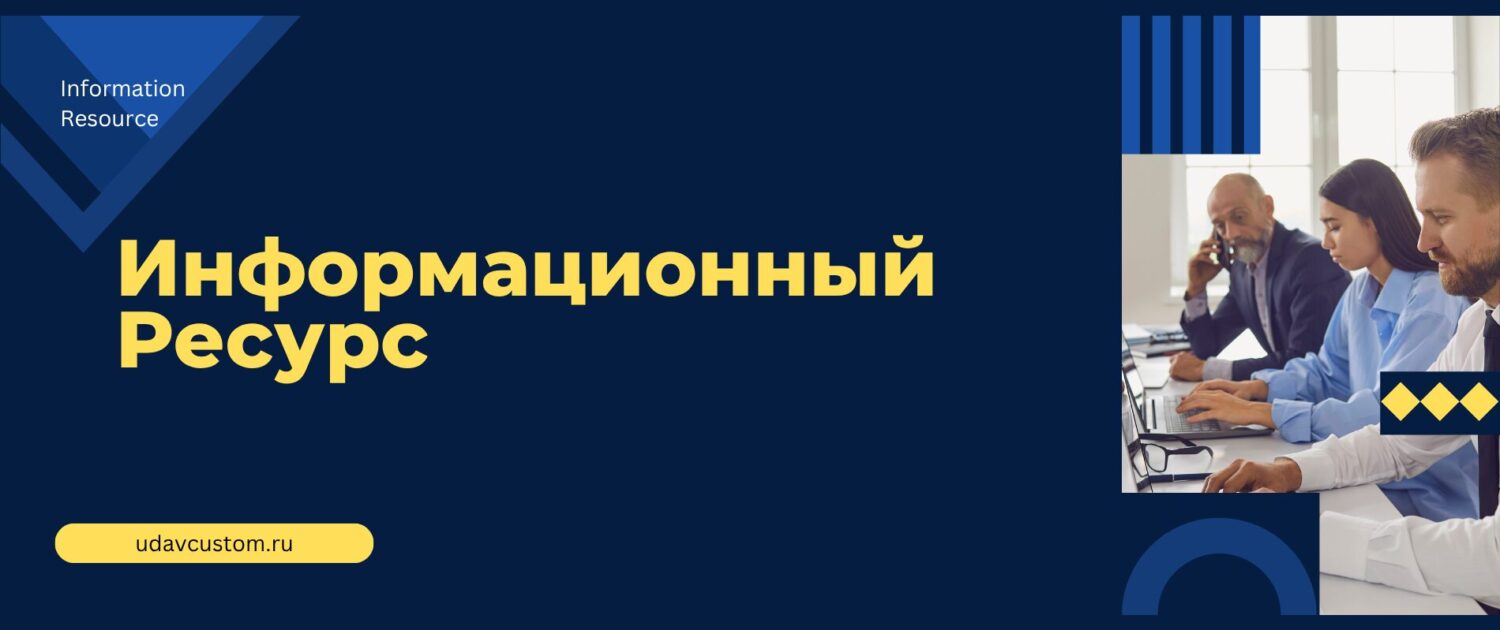Разговоры о том, что молодежь сама построит свои пенсионные фонды через стартапы, инвестиции и пассивный доход — это отголоски той самой романтики нулевых, когда казалось, что достаточно желания и усердия.
Но вся эта конструкция держится на одном фундаменте: на растущей экономике с предсказуемыми правилами игры.
Когда исчезает экономический рост, когда инвестиционный климат становится токсичным, когда капитал бежит, а не приходит, — вся мифология про самостоятельное накопление рассыпается как карточный домик. Биржевые инструменты работают в логике роста, стартапы нуждаются в венчурных инвестициях и развитой экосистеме, пассивный доход требует стабильности и ликвидности. Что из этого останется через пять лет в текущих условиях? Предлагать зумерам самим копить на пенсию в ситуации, когда горизонт планирования сократился до квартала, — это либо наивность, либо цинизм.
Но есть в этой истории и другой, гораздо более тонкий момент. Когда государство говорит человеку: «твоя пенсия — твоя забота», оно неизбежно запускает процесс политизации сознания. Человек, который понимает, что его будущее зависит исключительно от него самого, перестает быть пассивным получателем благ. Он начинает считать. Считать налоги, которые платит. Считать, куда идут эти деньги. Интересоваться, кто и как формирует бюджет. Требовать прозрачности и подотчетности.
В классической либеральной модели так и устроено: государство — это технический аппарат, менеджер коллективных ресурсов, которому граждане делегируют полномочия и которого они контролируют. Не благодетель, не отец-кормилец, а наемный управляющий.
Проблема в том, что в нашей системе координат произошло катастрофическое смещение понятий. И чиновники, и значительная часть населения живут в парадигме государства-кормильца, которое «дает» работу, зарплаты, пенсии, льготы. Недавнее заявление Матвиенко — прекрасная иллюстрация этого искажения: когда представитель власти говорит о том, что государство что-то «дает» гражданам, это означает полное забвение базового принципа.
Государство ничего не дает. Оно перераспределяет то, что создано трудом граждан и отобрано у них же в виде налогов. Оно — не источник благ, а их оператор. Смешение этих ролей ведет к патернализму, инфантилизации общества и бесконтрольности власти.
Вот здесь и возникает самое интересное противоречие. Легитимность нынешней модели государственности во многом держится именно на этом патернализме, на социальных обязательствах, на идее, что власть заботится о населении. Социальные расходы — это не просто перераспределение, это инструмент влияния, механизм формирования лояльности.
Если граждане действительно построят свою параллельную экономику, научатся обходиться без государственных подачек и обеспечивать себя сами, следующий вопрос станет неизбежным: а для чего тогда вся эта махина? Если я сам зарабатываю, сам коплю, сам инвестирую, сам планирую — зачем мне институты, которые не защищают мои права, не обеспечивают правопорядок, не создают условия для развития, а только изымают ресурсы и раздают их по непрозрачным схемам?
Дать людям реальную свободу в финансовых решениях — значит дать им инструмент эмансипации от государственного патронажа. А это уже совсем другая политическая конфигурация, к которой нынешний Левиафан абсолютно не готов.
Telegram-канал «Юрий Долгорукий»